Продолжение (Предыдущая страница)
Российский уполномоченный в крымских делах резидент Петр Веселицкий предпринял попытку склонить нового крымского хана на сторону России и предложил послать к императрице письмо с просьбой «принять под русскую руку» города Кефу, Керчь и Ени-Кале. Сахиб Гирай отказался. Отказался он и от предложения прибывшего в Бахчисарай генерала Щербинина якобы «охранять» крымские вольности на время, пока не разрешится вопрос о мире между Портой и Россией.
Новость о том, что конгресс в Фокшанах был прерван из-за вопроса о независимости крымских татар, быстро распространилась в ханстве. Это послужило сигналом к новым военным действиям. В Крымское ханство были спешно введены дополнительные войска, и князю Долгорукову дали указание во что бы это ни стало заключить с ханом формальный союзный трактат, провозгласивший независимость ханства. Князь приступил к переговорам, но они шли безрезультатно. Ни крымских хан, ни крымскотатарская знать не желали заключать мир и провозглашать независимость ханства на выгодных для России условиях.
И тогда Долгоруков пошел проверенным путем. 19 сентября 1772 года вошло в историю Крымского ханства как самый страшный день. Массовые казни, сопровождавшиеся выжиганием больших сел и малых деревень, продолжались несколько недель. Поняв, что русские не остановятся перед истреблением целого народа, крымский хан вынужден был согласиться на подписание внутреннего договора о независимости ханства. Согласно статьям этого документа, русской стороне переходили керченский полуостров с крепостью Ени-Кале и большое село Ахъяр.
В Стамбуле не признали ни независимости ханства, ни его союза с Россией, ни избрания в ханы Сахиба Гирая. А на собрании Большего Дивана султан провозгласил крымским ханом Максуда Гирая. Турки надеялись, что с помощью задунайских татар этот хан восстановит довоенный статус. Но Максуд Гирай надежд не оправдал.
Мирные переговоры на фокшанском конгрессе окончились полным провалом. Вопрос о независимости Крымского ханства зашел в тупик. Однако обе стороны были заинтересованы в скорейшем заключении мирного договора. А после известия о долгоруковском терроре в ханстве великий визирь Османской империи направил письмо российскому правительству, в котором содержалосъ предложение продлить перемирие сроком на шесть месяцев и возобновить прерванные переговоры. На этот раз визирь предлагал устроить их в Бухаресте. Бухарест, предложенный Османской империей в качестве места созыва нового конгресса, не встретил возражения со стороны России, несмотря на то что этот город был расположен значительно ближе к османским владениям, чем Фокшаны. Приближалась зима, а столичный город являлся наиболее удобным пунктом для заседаний мирного конгресса.
На этот раз представителем от Порты был назначен реис-эфенди Абдулл-Ризак, который ведал иностранными делами под управлением великого визиря и был хорошо осведомлен о возложенной на него миссии. Представителем от России по-прежнему оставался дипломат, резидент III ранга Обресков.
После Фокшанского конгресса обе стороны пришли к мнению, что ни о каком присутствии иностранных представителей не может быть и речи.
29 октября 1772 года официально открылось первое заседание бухарестского конгресса. По примеру Фокшан и согласно этикету обе стороны вошли в зал одновременно, послы «сели на приготовленные для них двоих канапе, между которыми поставлен был стол, покрытый красным сукном и золотым галуном обложенный. А свиты их стояли одна против другой...». После того как произошел обмен приветственными речами, послы перешли к вопросу о продлении перемирия до марта следующего года. Как и в Фокшанах, Обресков начал с трех предложений, которые должны были служить «основанием мирного трактата», а именно: установить «твердый и навсегда прочный мир» с Османской империей, возместить все убытки, понесенные во время войны России с Портой, и беспрепятственно вести России торговлю на Черном море.
Выслушав первые три пункта, реис-эфенди Абдулл-Ризак тактично напомнил Обрескову причины разгоревшейся войны; кроме этого, он указал на вмешательство России в польские дела, что усложнило положение. После недолгих споров и за неимением веских доказательств Обресков предложил вопрос о виновнике войны «в нерешительности оставить». Повис в воздухе и третий пункт о торговле России на Черном море.
На всех следующих конференциях Обресков предлагал к обсуждению второстепенные пункты предстоящего мирного договора и умышленно оттягивал главный вопрос, который должен был лечь в основу мира — независимость Крымского ханства.
Дело в том, что русский дипломат ждал новостей из Крыма о заключении вынужденного внутреннего договора России с крымско-татарским правительством, с проектом которого был лично знаком, и поэтому в случае несговорчивости реис-эфенди рассчитывал апеллировать к этому договору как к юридическому документу и желанию самих крымских татар быть независимыми.
Накануне восьмой конференции в Бухарест прибыл курьер с долгожданной копией договора, которую Обресков и предоставил Абдулл-Ризаку на следующий день. Но российская дипломатия переоценила значение договора с Крымом. Османский дипломат был ознакомлен с этим документом гораздо раньше и не собирался идти на уступки в вопросах гарантии крымскотатарской независимости со стороны России.
Особенно остро развернулся вопрос о мореплавании. Абдулл-Ризак упорно отказывался слушать об уступке России порта на Черном море. Единственное, на что согласился османский дипломат, так это на то, что по Черному морю могут ходить только торговые суда России.
В начале декабря переговоры зашли в тупик. Дипломаты обеих государств не могли продолжить их без новых правительственных инструкций, в которых должны были содержаться уступки как со стороны Османской империи, так и со стороны России.
* * *
Итак, дипломаты обеих государств не могли продолжить переговоры без новых правительственных инструкций. В конце января 1773 года Обресков получил правительственный рескрипт с ответом на его запрос. В нем заключались следующие требования к Порте: предоставить независимость крымским татарам с передачей им Крымского ханства, за исключением Керчи и Ени-Кале (которые должны были остаться за Россией), а также передать России Азов и Кинбург. Османской границей должен был стать Днестр, а границей России — Буг до соединения его с Днепром. Далее говорилось о «свободном мореплавании всякого рода российских судов без малейшего притеснения по всем морям, омывающим берега Блистательной Порты, со свободным проездом из Черного в Средиземное море и обратно»; о свободной торговле русских купцов в османских областях и водах «с теми же привилегиями и выгодами, кои дозволены европейским народам, наиболее с Блистательной Портою дружественными, как-то: французам, англичанам и прочим».
При условии принятия всех этих требований Обресков от имени России предложил Османской империи возвратить все остальные завоевания, включая Валашское и Молдавское княжества.
Османский представитель Абдулл-Ризак не торопился с ответом, он переслал копию рескрипта в Стамбул и только на последней конференции, состоявшейся 9 марта 1773 года, Абдулл-Ризак сообщил о полученной им «решительной резолюции» султана.
Османское правительство выразило полное несогласие как с независимостью Крымского ханства и передачей России крепостей на крымском полуострове, так и со свободным мореплаванием по Черному морю и коммерцией. Но султан предложил выплатить военные расходы России в размере 12 млн рублей, а за отказ от Керчи и Ени-Кале — 9 млн.
Такое положение вещей не устраивало русское правительство. К тому же срок перемирия истек и дальнейшее пребывание послов в Бухаресте было бесполезным. Несмотря на то, что Бухарестский Конгресс, продолжавшийся с 29 октября 1772 по 9 марта 1773 года, и не привел к заключению мира, тем не менее он являлся важным этапом в подготовке Кучук-Кайнарджийского мирного договора 1774 года.
Неудача Бухарестского конгресса привела к новым военным действиям. Однако силы обеих сторон были на исходе и, несмотря на переменные военные удачи и поражения, мир был необходим обеим империям.
К осени Россия начала сдавать свои позиции, а в сентябре 1773 года ее силы значительно подорвало восстание, переросшее в крестьянскую войну под предводительством Емельяна Пугачева. Поэтому российское правительство решило как можно скорее заключить мир с Портой. Весной 1774 года царское правительство еще раз пересмотрело условия мира и внесло изменения: «... удовольствоваться получением вместо Ени-Кале и Керчи Кинбурнской крепости, с тем чтобы и Порта оставила крымским татарам все крепости в Крыму, на Тамани и на Кубани, также и одним плаванием торговых судов».
Навязанный в 1772 году крымским татарам договор о независимости ханства тоже постепенно терял свою актуальность по вине самих же инициаторов этой идеи. Русская администрация стала отбирать у населения их земли, частную собственность в гораздо большем количестве, чем было указано в мирном трактате, тем самым откровенно нарушая условия договора.
Такое положение вещей вызвало возмущение со стороны крымского хана Сахиба Гирая, и на собрании малого Дивана совместно с беями и мурзами он принимает твердое решение — расторгнуть трактат.
Таким образом, единственное дипломатическое средство — договор, указывающий на согласие Крымского ханства с независимостью и присутствием на его территории русских, терял свою юридическую силу, и в Петербурге это хорошо понимали, но снова прибегнуть к силе оружия не решались из-за нестабильного положения в самой стране. Крестьянское восстание Пугачева принимало огромные масштабы и ширилось с каждым днем. Русские войска терпели военные неудачи от турок на Дунае. Безрезультатно окончились и попытки активных действий русских войск в октябре 1773 года под Варной и Шумлой. А между тем на Кубани вспыхнуло восстание ногайцев, недовольных политикой притеснения со стороны России. Принять меры удалось только против кубанских ногайцев, ставших жертвой излюбленного средства — карательного похода под руководством полковника Бухвостова. Но и это было временно. На Кубани готовился новый мятеж под началом принца Девлета Гирая, грозивший перекинуться на остальные области Крымского ханства, чего Россия не могла допустить. Поэтому в Петербурге приняли решение получить «по настоящим обстоятельствам нужду в скором мире».
Однако в Стамбуле думали иначе. Возмущенный выдвинутыми требованиями русского правительства на заключительном этапе Бухарестского конгресса, султан Мустафа III не был намерен идти на уступки противнику, и о заключении мира вопрос уже не стоял. Пользуясь поддержкой Франции и Австрии, он распорядился стянуть значительные силы османской армии к основному дунайскому театру военных действий.
Это насторожило Екатерину, которая еще в январе 1773 года категорично требовала свободного плавания военных кораблей по Черному морю и проливам и была готова продолжить войну. Но обстоятельства изменились, к тому же русская армия значительно ослабла, и было принято решение пойти на компромисс и удовлетвориться только Кинбурнской крепостью.
Неизвестно, как бы далее развивались события и сколько бы длилась война между Османской империей и Россией, а также каковы были бы условия мирного договора, если бы в декабре 1773 года в Стамбуле не умер султан Мустафа III, ярый противник Российской империи.
Его преемник Абдулл-Хамид I без всякого энтузиазма смотрел на продолжение военных действий и поручил великому визирю Махсуд-3аде выдвинуть России условия, в случае принятия которых мирные переговоры будут возобновлены.
Требования заключались в том, что Крымский хан должен был получать благословение султана (как халифа всего мусульманского мира) на ханский престол; крепости Керчь и Ени-Кале должны остаться во владении крымских татар, а на Черном море разрешалось торговать только «простым купцам без пушек и оружия».
Россия стремилась поскорее прекратить войну и на выдвинутые условия согласилась в надежде выторговать желаемое в процессе мирных переговоров. И уже в апреле 1774 года граф Румянцев послал великому визирю ноту, в которой сообщал о своей готовности принять предложение Абдулл-Хамида I.
4 июля османские уполномоченные прибыли в деревню Буйюк-Кайнарджи, расположенную неподалеку от деревни Кучук-Кайнарджи. Граф Румянцев, который уже находился в Кучук-Кайнарджи, послал к ним для приветствий и поздравлений полковника Петерсона. 5 июля османские представители Ресми-Ахмед эфенди и реис-эфенди Ибраим-Мюниб со своей свитой прибыли в деревню Кучук-Кайнарджи. В тот же день османские и русские уполномоченные вступили в переговоры, которые продолжались с 11 утра до 2 часов дня. Стороны сразу же пришли к мнению, что мирный договор будет подписан в течение пяти дней. Румянцев выторговал главную уступку у османских послов: Россия все же получала Керчь, Ени-Кале и Кинбурн вместе с территорией между Бугом и Днепром. Все остальные крепости «в Крыму, на Кубани и на острове Тамань и прочие земли», бывшие во владении Крымского ханства, оставались крымским татарам. Взамен Россия вынуждена была согласиться оставить Порте «города Очаков с древним его уездом, возвратить Бессарабию, Молдавию и Валахию со всеми городами и крепостями...».
7 июля переговоры велись об «оставшихся пунктах», в частности — о черноморском судоходстве. 8 и 9 июля переговоры длились до позднего вечера. Наконец 10 июля 1774 года в деревне Кучук-Кайнарджи наступил решающий день. Последние переговоры длились «от полудня до 7 часов вечера» и завершились подписанием долгожданного мирного договора на обоюдных условиях.
Договор на османском и итальянском языках подписали с османской стороны Ресми-Ахмед эфенди и реис-эфенди Ибраим-Мюниб, а на русском и итальянском с русской стороны подписал генерал-поручик князь Николай Репнин. Теперь предстояло утвердить все статьи мирного договора великому визирю и фельдмаршалу Румянцеву, что они и сделали 15 июля 1774 года. Только после этого окончательное подписание Кучук-Кайнарджийского трактата было завершено. Тут же обе стороны во все концы разослали курьеров с приказами о прекращении военных действий.
Подписание этого мира принесло Крымскому ханству так называемую независимость. Артикул 3 гласил: «Все татарские народы: крымские, буджатские, кубанские, едисанцы, джамбулуки и едичкулы без изъятия от обеих империй имеют быть признаны вольными и совершенно независимыми от всякой посторонней власти, но пребывающими под самодержавною властию собственного их хана Чингисского поколения, всем татарским обществом избранного и возведенного, которой да управляет ими по древним их законам и обычаям, не отдавая отчету ни в чем никакой посторонней державе; и для того ни Российский двор, ни Оттоманская Порта не имеют вступаться как в избрание и возведение помянутого хана, так и в домашние, политические, гражданские и внутренние их дела ни под каким видом, но признавать и почитать оную татарскую нацию в политическом и гражданском состоянии, по примеру других держав, под собственным правлением своим состоящих, ни от кого, кроме единого Бога, не зависящих. В духовных же обрядах, как единоверные с мусульманами, в рассуждении его султанского величества, яко верховного калифа магометанского закона, имеют сообразоваться правилам, законам их предписанным, без малейшего предосужения однако ж утверждаемой для них политической и гражданской вольности. Российская империя оставит сей татарской нации, кроме крепостей Керчи и Еникуля с их уездами и пристаньми... и обещается по постановлении мирного трактата все свои войски вывести из их владений. А Блистательная Порта взаимно обязывается равномерно отрещись от всякого права, какое бы оное быть ни могло, на крепости, города, жилища и на все прочее в Крыму, на Кубани и на острове Тамане лежащее, в них гарнизонов и военных людей своих никаких не иметь, уступя оные области таким образом, как Российской двор уступает, татарам в полное самодержавное и независимое их владение и правление; також наиторжественнейшим образом Блистательная Порта обязывается и обещает и впредь в помянутые города, крепости, земли и жилища гарнизонов своих и всяких, какого бы звания ни были, своих людей военных в оные не вводить и там не содержать, ниже во внутри области сейменов или других военных людей, какого бы звания ни были, иметь, а оставить всех татар в той же полной вольности и независимости, в каковой Российская империя их оставляет».
Как видно из основного пункта трактата, крымские татары были признаны вольным и независимым народом.
Подтверждался государственный суверенитет ханства и крымскотатарского народа, которому возвращались все захваченные города, крепости и селения.
И крымские татары по-прежнему оставались духовными подданными халифа — султана, которому была дана власть утверждать избранных крымскотатарской бейской верхушкой крымских ханов.

Источник:
Абдулаева Г.А. Битвы из истории Крымского ханства: очерки. — Симферополь: КРП "Издательство "Крымучпедгиз", 2013. — 208 с.: фото. — На русском языке.
Информация о книге на форуме сайта.

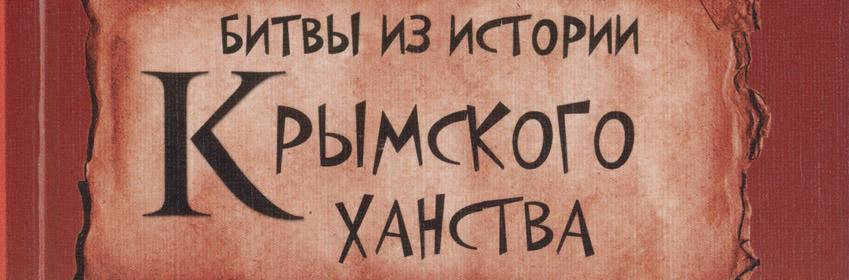
Комментарии
Список комментариев пуст
Оставьте свой комментарий